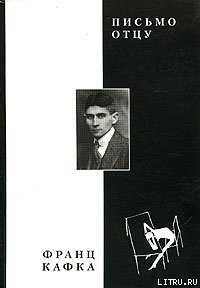Каждому свое • Американская тетушка - Шаша Леонардо (читать книги онлайн без регистрации txt, fb2) 📗
— Ну и что это доказывает? Он мог любить также и деньги, быть тщеславным.
— Деньги у него были. А тщеславие было ему чуждо. Да и потом, какие могут быть тщеславные желания у человека, который по своей воле решил навсегда остаться в нашем городишке?
— Ну, скажем, занять то же положение, какое в былое время занимал городской врач, — жить на свои собственные сбережения, лечить бесплатно и даже оставлять бедным пациентам немного денег на лекарства.
— Примерно к этому он и стремился. Но зарабатывал он хорошо а слыл отличным врачом не только у нас, но и в округе; к нему на прием всегда приходило множество больных. И потом, у него было имя, ведь старик Рошо был известным врачом. Кстати, я собираюсь его навестить.
— Словом, ты и в самом деле подозреваешь, что смерть Рошо связана с его враждебным отношением к таинственному господину?
— Нет, этого я не думаю. Ничто не подтверждает такого подозрения. Рошо умер потому, что неосторожно (я говорю неосторожно, так как он знал об угрозе) отправился на охоту вместе с аптекарем Манно. Во всяком случае, мне так кажется.
— Бедный Рошо, — сказал депутат.
Глава восьмая
Старый профессор Рошо, чья слава замечательного окулиста до сих пор живет в Западной Сицилии, постепенно становясь легендой, уже лет двадцать назад оставил кафедру и перестал практиковать. Ему уже перевалило за девяносто. По иронии судьбы, а может быть, в подтверждение мифа о человеке, который, возвращая зрение слепым, бросил вызов природе и та в отмщение его самого лишила зрения, профессор Рошо был поражен в старости почти полной слепотой. Он поселился в Палермо, у своего сына, который был, верно, не менее опытным глазным врачом, но, по убеждению многих, жил рентой со славы отца. Лаурана по телефону известил о своем желании навестить многоуважаемого профессора в любое удобное для него время. Служанка отправилась доложить об этом хозяину. Он сам подошел к телефону и сказал Лауране, чтобы тот приходил немедля. Конечно, по одному беглому упоминанию о прошлых встречах ему не удалось тут же вспомнить старого друга младшего сына, но в своем беспросветном одиночестве старик очень нуждался в собеседнике.
Было пять часов дня. Старик профессор сидел в кресле на террасе, сбоку стоял проигрыватель, и знаменитый актер то дрожащим, то громовым, то проникновенным голосом декламировал тринадцатую песнь «Ада».
— Видите, до чего я дожил? — сказал профессор, протягивая ему руку. — Должен слушать «Божественную комедию» в его исполнении.
Можно было подумать, что актер стоял рядом, а у профессора были свои причины глубоко его презирать.
— Я бы предпочел, чтобы Данте мне читал двенадцатилетний внук, служанка или швейцар, но у них другие дела.
За парапетом террасы в горячем сирокко сверкал Палермо.
— Чудесный вид, — сказал старый профессор и уверенно показал рукой, — вон там Сан Джованни дельи Эремити, Палаццо д'Орлеан, королевский дворец. — Он улыбнулся. — Когда десять лет назад мы поселились в этом доме, я видел чуть получше. Теперь я вижу только свет, да и то словно далекое белое пламя. К счастью, в Палермо света много. Но что проку говорить о наших недугах... Значит, вы были другом моего бедного сына?
— Да, в гимназии и в лицее, потом он поступил на медицинский факультет, а я — на филологический.
— На филологический? Так вы преподаватель?
— Да, преподаю итальянский язык и историю.
— Представьте себе, я жалею, что не стал специалистом по литературе. Сейчас я по крайней мере знал бы наизусть «Божественную комедию».
«Ну, это у него пунктик», — подумал Лаурана.
— Но вы в своей жизни сделали много больше, чем те, кто читает и комментирует «Божественную комедию».
— Вы думаете, что моя работа имела больше смысла, чем ваша?
— Нет. Но то, что делаю я, способны делать тысячи людей, а вот возвращать зрение слепым могут лишь немногие — десять-двадцать человек в мире.
— Чепуха, — сказал профессор и, как видно, задремал. Затем внезапно спросил: — А мой сын, каким он был в последнее время?
— Каким был?
— Я хочу сказать, нервничал ли он, проявлял признаки беспокойства, озабоченности?
— Нет, я этого не замечал. Но вчера, беседуя с одним приятелем, который виделся с ним в Риме, я припомнил, что он в последнее время действительно немного изменился. Но вы-то почему об этом спрашиваете?
— Потому что и мне он показался не таким, как всегда... Простите, но вы сказали, что какой-то человек встречался с ним в Риме?
— Да, в Риме, за две-три недели до несчастья.
— Странно. А этот человек, случайно, не ошибается?
— Нет, не ошибается. Он был нашим товарищем по школе. Теперь он депутат парламента, коммунист. Ваш сын ездил в Рим специально, чтобы встретиться с ним.
— Встретиться? Странно, очень странно... Не думаю, чтобы у сына была просьба к нему, хотя коммунисты в определенном смысле тоже стоят у власти. Куда легче добиться протекции от тех, других, — он показал пальцем на Палаццо д'Орлеан, резиденцию Областного собрания. — А те, другие, были у сына под боком, в самом доме. И, насколько мне известно, люди довольно-таки влиятельные.
— Но он, собственно, и не собирался просить об услуге. Он хотел, чтобы наш друг разоблачил в парламенте злоупотребления и мошенничества одного видного человека.
— Мой сын? — изумился старик.
— Да, я тоже был очень удивлен.
— Он и в самом деле сильно изменился, — заключил старик, словно беседуя с самим собой. — Изрядно изменился, и я даже запамятовал, когда впервые заметил в нем какую-то усталость, неприязнь к людям и даже нетерпимость суждений, которая напоминала мне его мать... Моя жена происходила из семьи мелких землевладельцев, которым в двадцать шестом — тридцатом годах тяжко пришлось, прежде чем они выпутались из сетей, расставленных ростовщиками... Нет, моя жена не любила ближних своих... Вернее сказать, просто не понимала их, и никто ее этому не научил, И уж меньше всего я... Но о чем мы говорили?
— О вашем сыне.
— Ах да, о сыне... Ему нельзя было отказать в уме, но он был инертен и нелюбопытен. И отличался редкой честностью... Быть может, от матери он унаследовал прочную любовь к земле, к полям. Только это он и унаследовал от нее, ведь его дедушка, отец моей жены, как дикарь, дневал и ночевал в поле, да и моя жена тоже... А сын, кажется, не отрывался от книг... Он был из тех людей, которых обычно называют простаками, а между тем это дьявольски сложные натуры... Поэтому мне не понравилось, что, женившись, он попал в семью католиков. Я говорю, католиков, так сказать, фигурально, потому что за долгие годы, а мне скоро девяносто два, ни разу не встречал здесь истинного католика. Есть люди, которые на своем веку лишь пол-облатки причастия и попробовали, но всегда готовы запустить руку в чужой карман, пнуть ногой в лицо больного или умирающего и подстрелить из люпары [4] здорового... Кстати, вы знаете мою невестку, ее родственников?
— Не особенно близко.
— А я их почти совсем не знаю. Невестку я видел несколько раз, а ее дядю всего однажды, он у нее вроде каноник?
— Да, каноник.
— Премилый человек. Он пытался обратить меня. К счастью, он был в Палермо проездом, а то, пожалуй, все кончилось бы тем, что он тайком привел бы ко мне самого Папу. Ему даже в голову не пришло, что я глубоко верующий человек... Моя невестка, говорят, очень красива?
— Да, очень.
— А может, она очень чувственна? Когда я был молод, таких особ называли «женщина для постели», — спокойно, со знанием дела сказал он, словно речь шла совсем не о жене его погибшего сына, и руками обрисовал распростертое женское тело. — Вероятно, это выражение теперь не в ходу, ведь женщина утратила свою таинственность и в алькове, и в душе мужчины. Знаете, о чем я сейчас подумал? Католической церкви удалось наконец одержать величайшую победу — отныне мужчина презирает женщину. Добиться этого церкви не удавалось даже в самые мрачные и жестокие века. А вот теперь она торжествует. Теолог сказал бы, что это месть Провидения; мужчина думал, что уж в сфере эротики он обрел полную свободу действий, а сам угодил в старую ловушку.